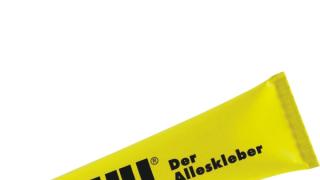Гендерные исследования
Первые курсы по изучению женских проблем в высшей школе были организованы под влиянием женского движения 60-х годов прошлого века, когда женщины Западной Европы и США выступали в феминистском освободительном движении за гражданские и экономические права. Теоретический анализ считался важнейшим условием социальных изменений, а исследование угнетения женщин ассоциировалось с поиском возможностей преодоления неравенства в патриархальном обществе. Под женскими исследованиями (от англ. women"s studies) стали понимать целенаправленное изучение женского опыта и взгляда на мир, формирующее полноценное понимание жизни женщины. Как пишет Рената Хоф, «отличием женских исследований от исследования о женщинах является включение женского жизненного опыта... как основы научной работы, что не только изменило тип аргументации, но также внесло в нее иной познавательный интерес. Традиционные исследования о женщинах перестали рассматриваться как научно обоснованные высказывания, способные объяснить неравные общественные позиции женщин и мужчин. «Теории», которые приписывали женщинам особенную иррациональность, кротость и домовитость, стали считаться теперь мужскими стратегиями, имеющими своей целью не столько объяснить, сколько оправдать существующий status quo. Другими словами: под сомнение был поставлен нейтральный, «бесполый» исследователь-индивидуум, погруженный в теоретическую и критическую работу, который, долгое время размышляя над... универсальными человеческими ценностями Просвещения, почти совсем упустил из виду властные соотношения внутри нашей культуры, зависящие от пола. Впервые стало ясно, что многие из имеющихся общественных теорий с их претензиями на универсализм находились в противоречии с жизненной практикой женщин. ... Многие из феноменов, которые нуждались в объяснении с точки зрения женщин, вообще до сих пор не исследовались. То, что считалось знанием, подтвержденным с позиций теории познания, признанным «фактом», оказалось... ограниченным продуктом привилегий».
Историю развития женских исследований за рубежом можно условно разделить на три периода. Первый период развития женских исследований в США (конец 1960-х - 1970-е гг.) характеризовался усилиями по созданию новой академической области. В этот период в американских университетах возникли исследования, в рамках которых женщины изучали и переосмысливали опыт женщин. Женские исследования возникли, когда стало очевидным, что в сущности социальные и гуманитарные науки под видом изучения человека вообще, то есть
Homo sapiens, изучают мужчин, а жизненный опыт женщин и их взгляд на мир оказываются не отраженными в культуре. Женские исследования как раз и были ориентированы на изучение женского опыта и взгляда на мир. Это потребовало использования новых методов исследования: исповеди, групповой дискуссии, глубинных интервью, вторичного анализа материалов этнографических исследований и др. Изучение женщин изначально появилось в рамках традиционных академических дисциплин (литература, история, философия, социология и психология). Несправедливо забытые труды женщин были опубликованы и начали использоваться в учебном процессе, а ученые стали связывать темы своих исследований с проблемами женщин. Вскоре стало ясно, что подход, согласно которому в научные исследования механически включались данные о женщинах («просто добавить женщину»), был недостаточным, поскольку ни одна из традиционных дисциплин не была в состоянии предоставить полноценное понимание жизни женщин. Необходимость целенаправленного развития самостоятельных женских исследований была осознана многими университетскими преподавателями и учеными. Организация в 1977 г. Национальной ассоциации женских исследований способствовала распространению новых программ. Ассоциация выпускала журнал, организовывала ежегодные конференции, проводила мониторинг программ и рассылку информации по университетам США.
Второй период развития женских исследований отсчитывают с начала 1980-х гг. В это время происходила интеграция женских исследований в высшее образование США и развитие «сбалансированных учебных планов» посредством введения новых знаний о женщинах в традиционные дисциплины. Наиболее обеспеченные программы открыли исследовательские центры, издавали собственные книги и журналы, а некоторые даже приобрели статус отдельных факультетов. В университетах началось широкое обсуждение статуса женщин, осуждение явлений женской дискриминации в публичной и частной сферах, озвучивание предубеждений против женщин, существующих в социуме, литературе и образовании. Было учреждено много журналов, опубликованы антологии и хрестоматии по женским исследованиям. Авторы публикаций стремились к тому, чтобы женщины не были просто «сноской», а попали в центр внимания науки и социальной практики. А для этого следовало внести изменения в те установки и язык, которые характерны для академического знания. Споры вызвал междисциплинарный характер женских исследований, который, казалось, ставил под вопрос самостоятельный статус этой дисциплины и указывал на ее очевидную интеграцию с традиционными отраслями знания. Например, появляются такие дисциплины, как психология женщин, история женщин, женская литература. Вместе с тем, многие были уверены, что женские исследования могут претендовать на статус самостоятельной дисциплины, а не просто фигурировать в рамках раздела о женщинах внутри уже существующих дисциплин. Одной из задач программ женских исследований в университетах США было женское образование. Ценности феминизма, включая критику всех форм доминирования, акцент на сотрудничестве и стремление к интеграции теории и практики оформили подход к преподаванию, который получил название феминистской педагогики. Согласно ей аудитория превращалась в интерактивную обучающую среду, интеллектуально и эмоционально вовлекающую всех студентов в учебный процесс.
Третий период развития исследований относится к середине 80-х годов и связан с включением в учебные программы опыта меньшинств и чувствительности к различиям женщин. Чернокожие женщины требовали включить в содержание понятия «женственность» расовые и классовые отличия. Женские исследования подвергались также критике за гетеросексизм, то есть идеологию и практику дискриминации людей (в частности, женщин) нетрадиционной половой ориентации. В этот период издаются новые журналы, финансируются проекты и сетевые программы для «цветных» женщин в высшей школе, проводятся конференции и летние школы. Феминистская мысль теперь отрицала эссенциализм и признавала множественные идентичности женщин, учитывая опыт рас, этнических групп, социальных слоев и сексуальных ориентаций. Идентичность (впервые понятие было введено Э. Эриксоном) опирается на осознание временной протяженности собственного существования, предполагает восприятие собственной целостности, позволяет человеку определять степень своего сходства с разными людьми при одновременном видении своей уникальности и неповторимости. В настоящий момент рассматривают социальную и личностную (персональную) идентичность.
Институционализация женских исследований в университетах привела не только к их качественному росту. Настоятельно проявились требования более систематично относиться к феминистской теории, сделать более ясным методологический подход к ее основным понятиям. Немалую роль в этом сыграли многочисленные дискуссии по ключевым проблемам и понятиям феминизма, а также взаимная критика и самокритика разных концепций феминизма. Формирование феминистской теории и ее критический пафос в отношении культуры – явление вполне закономерное. Сам механизм традиционного развития патриархата, основанный на доминировании «мужского» (маскулинного) и вытеснении и подавлении «женского» (феминного) поставил женщину в положение критика и ниспровергателя этой культуры. Подчеркнуто антимужской пафос феминистской теории 60-70-х годов обусловлен, на взгляд О. Ворониной, недостаточной разработанностью в то время категорий «пол» и «гендер», хотя тенденция оценивать мир с гендерной точки зрения и просматривается уже в ранних феминистских текстах. Здесь можно привести высказывание Суламифь Файерстоун: «Если природа сделала женщину отличной от мужчины, то общество сделало ее отличной от человека».
Сегодня идеи о том, что мужской и женский опыт различны, и что эти различия имеют важные последствия, в особенности в теории познания, стали почти ортодоксией в академическом феминизме. Алис Жардин писала: «... феминизм, несмотря на все различия, в конечном счете, коренится в представлении, что женские истина, опыт и реальность всегда отличаются от мужских, так же, как и их продукция и артефакты по-разному оцениваются и легитимизируются в патриархатной культуре». Женские исследования начинают рассматриваться не только как образовательный капитал для карьеры университетского преподавателя, но и как источник дополнительной экспертизы в отношении деятельности правительства.
Формирование обновленных социальных дисциплин требовало новых нестандартных техник, которые позволяли бы обнаруживать гендерные составляющие в исследованиях любых направлений знания. Так, женские исследования постепенно перерастают в гендерные исследования, в которых на первый план выдвигаются подходы, согласно которым практически все аспекты общества, культуры и взаимоотношений людей пронизаны гендерной составляющей. Как указывает О. Воронина, основой теории и методологии гендерных исследований является не просто описание разницы в статусах, ролях и иных аспектах жизни женщин и мужчин, но анализ власти и доминирования, утверждаемых в обществе. В 90-е гг. ХХ века наблюдается постепенное смещение акцентов: от анализа женского фактора и констатации мужского доминирования –
к анализу того, как гендер влияет на женщин и мужчин. Гендерный подход предлагает способ познания действительности, при котором противопоставление и очевидная неравноценность женских и мужских черт личности, образа мыслей, особенностей поведения закрепляют связь между биологическим полом и достижениями в социальной жизни. Гендерная методология дает возможность отойти от точки зрения о предопределенности женских и мужских характеристик ролей, статусов и жесткой фиксированности полоролевых моделей поведения, она показывает личностные пути развития и самореализации каждой человеческой личности, независимо от пола.
Гендерные исследования – теория, методология и практика междисциплинарного изучения общества и культуры на основе гендерного подхода.
Период гендерных исследований был связан с развитием глобальной инфраструктуры и повышением внимания к международным проблемам женщин. Распространение образовательных программ и исследовательских проектов по проблемам женщин и гендера в странах Западной Европы, Африки, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки привело к интенсивному обмену информацией, опытом и ресурсами между учеными и преподавателями. Были основаны регулярные международные летние институты, конференции и конгрессы, проводимые при поддержке женских организаций. Образовательные программы приобретали глобальную ориентацию, в частности, в связи с растущим числом публикаций, вышедших в постколониальных государствах и странах третьего мира. Эти программы делают акцент на вопросах политики, социально-экономического развития, проблемах милитаризма, репродуктивных прав, беженцев, работы и семьи. К концу 1990-х гг. число самостоятельных факультетов женских и гендерных исследований в США достигло 30, образовательные программы женских исследований существовали в 600 колледжах и университетах 34 штатов, включая 130 программ поствузовского образования: магистратура, докторантура.
В 1980-1990-х гг. появляются программы женских и гендерных исследований в Европе. Особо выделяются проекты на следующие темы: идентичность и репрезентации, конструкции маскулинности и феминности в международном масштабе; семья, право и меняющиеся дискурсы (рассуждение, или довод, логический и опосредованный, а не интуитивный и созерцательный) гендера; гендер и пространство; сексуальность; теории инаковости; работа и образование; насилие в отношении женщин и нарушение прав; феминистское движение и феминистская теория. В тот же период открываются самостоятельные кафедры и программы, учреждаются исследовательские ассоциации, в названии которых присутствует гендер. Международная сеть гендерных исследований, образованная в 1996 г. при Гендерном институте Лондонской школы экономики, в число своих задач включает следующие: поддерживать проекты гендерных исследований; развивать теории этики, справедливости и демократии; расширять перспективы социальной политики посредством исследований, международного сотрудничества ученых, неправительственных организаций, средств массовой информации, бизнеса и политики. Основной принцип ГИ – сочетание этики, теории и прагматики. Проекты разрабатываются в следующих направлениях:
Гендер и социальная философия;
Культурные конфликты, коллективные идентичности;
Гражданство, мобильность и сотрудничество;
Равные возможности и образование в течение всей жизни;
Перспективы трансграничных форм демократии.
В отличие от «женских исследований», гендерное исследование – это всегда изучение отношений между полами в контексте различного рода социальных и политических практик. Гендерные исследования помогают высвечивать социальные иерархии: они исходят из того, что любой авторитарный или националистический режим является вариантом патриархии, поскольку предполагает ту или иную форму репрессий на гендерной почве. Например, именно в рамках гендерных исследований возник интерес к рассмотрению фактов резкого роста проституции в Камбодже и Намибии в период нахождения там в 1990-е годы войск ООН. Другим предметом внимания гендерных исследований является изучение особенности насилия, применяемого во время войн по отношению к мужчинам и женщинам. Понятно, что военные действия по-разному затрагивают мужчин и женщин, причем последние становятся объектами особых видов насилия (сексуальная виктимизация, насильственная проституция, рабство и т.д.). Кроме того, насилие, испытываемое женщинами, автоматически переносится и на их детей, что также важно с точки зрения понимания его социальных последствий. Лишь гендерные исследования отметили факт сексуальной эксплуатации местных девушек солдатами-миротворцами в Косово. Взгляд на миротворческие подразделения сквозь призму сексуального насилия и взаимоотношений между полами не является типичным в негендерной исследовательской литературе.
А.И. Посадская
Социальные условия развития ""women"s studies" в постсоциалистической России настолько отличаются от условий возникновения этих исследований на Западе (где они явились результатом женского движения), что в первую очередь приходится отвечать на вопросы: "Почему женские исследования?" и "О чем могут быть женские исследования в стране, которая имела официальную линию на эмансипацию женщин в течение 70 лет?"
Действительно, при социализме мы имели достаточно много исследований по проблемам репродуктивного поведения женщин, сочетания занятости и материнства, условиям труда и т.д. Но эти работы не могут быть названы "women"s studies", потому что последние являются одновременно исследовательской и образовательной сферой, в которой отрицается биодетерминизм в объяснении различий между мужчиной и женщиной в обществе и провозглашается неинструментальный подход при рассмотрении женских проблем; вскрывается гендерное измерение всех сфер социальной жизни; выявляется ограниченность методологии, методов и результатов традиционной науки, развивавшейся преимущественно в рамках функционалистской парадигмы.
Образовательная задача women"s studies состоит в том, чтобы поднять уровень общественного осознания гендерных проблем и сделать их частью основного образовательного курса гуманитарных отделений институтов и университетов. Политическая цель заключается в том, чтобы через гендерное видение положения женщин в обществе способствовать включению женских интересов в политическую повестку дня.
Поэтому работа по развитию женских исследований не является и не может быть "чисто" академической. Чтобы достигнуть любого видимого успеха, должна быть разработана особая стратегия, объединяющая исследовательскую, образовательную, институциональную и общественную активность. Поэтому, чтобы оценить основные достижения женских исследований, мы должны принять во внимание все измерения этой стратегии.
Феминистская критика женского содержания основных социальных проектов (социализм, перестройка, постперестроечный период)
Как только появились возможности для открытого социологического анализа советской системы, были опубликованы результаты исследования, представляющего феминистский подход к "решению женского вопроса" при социализме . В статье утверждалось, что социалистическая программа гендерной эмансипации имела как концептуальные, так и практические проблемы. Как концепция, она была основана на идее "женской эмансипации сверху" и недооценивала необходимость эмансипировать другой пол - мужской. На практике многие позитивные стороны этой программы - общественное воспитание детей, широкий доступ женщин к производству и образованию - были реализованы на таком качественно низком уровне, что породили глубокий скептицизм относительно идеи женской эмансипации как таковой.
Было показано, что женщины продолжают концентрироваться в низкооплачиваемых, мало престижных секторах экономики, что у них гораздо меньше возможностей для продвижения, чем у мужчин. Исследование на тракторном заводе КАМАЗ (1988/1989 годы) выявило сильное негативное отношение к женщинам-управленцам и женщинам - предполагаемым кандидатам на руководящие посты. Благодаря этому исследованию стало очевидно, насколько далеки мы от реальной гендерной эмансипации.
Критика эмансипации женщин при социализме была привязана к критике официального и научного рассмотрения женских проблем в период перестройки. Призыв М. Горбачева "Вернуть женщин к их истинному предназначению" был охарактеризован как оправдание официальной линии решения бесчисленных экономических, социальных, политических проблем за счет женщин. Было показано, что женские проблемы воспринимались как инструментальные не только политиками и идеологами, но также рядом экономистов, демографов, писателей, журналистов. Как альтернатива такой тенденции была предложена программа, ориентированная на активную интеграцию женщин в социальную жизнь. Парадоксально, что она была заказана "переформировывавшимся" советским правительством для написания Концепции Государственной программы о статусе женщин, защите семьи, материнства и детства (1990 год) .
В настоящее время феминистская критика сфокусирована на постперестроечном развитии. Она показывает, как негативные социальные проблемы современного переходного периода всесторонне воздействуют на женщин. Оказалось, что и политики демократической ориентации продолжают рассматривать женщин с традиционных и инструментальных позиций, а старая политика коммунистической партии выглядит даже более "доброжелательной" к женщинам. "Демократия без женщин" породила, с одной стороны, глубокий скептицизм относительно возможностей любой политической системы "решить женский вопрос", с другой - попытку переоценить содержание и практику эмансипации женщин при социализме. Для анализа гендерных аспектов социального развития в переходный период была предложена концепция "постсоциалистического патриархального ренессанса" .
Новым шагом феминистского макросоциального анализа стала концепция переходного периода в России как гендерная проблема и формулирование концепции демократии с точки зрения ее отношения к понятию гендерной эмансипации. Вопрос в том, что, если все так называемые достижения демократии (политическая и экономическая либерализация) имеют "гендерное отклонение", не означает ли это, что мы должны кардинально пересмотреть наше отношение к демократии как таковой?
Феминистская критика проблем экономики и занятости
Ортодоксальные теории политической экономии социализма были основаны на разделении между "производительным" и "непроизводительным" типами труда и "производственными" и "непроизводственными" секторами экономики. В соответствии с этой точкой зрения весь труд в сфере здравоохранения, образования, услуг, культуры, туризма считался непроизводительным, потребительским, не создающим национального дохода. Так как основной частью работающих (от 60 до 89%) в этих секторах были и остаются женщины, то они составили большинство "непроизводительных" рабочих. Более того, труд вне сферы производства не рассматривался политэкономами как труд вообще, поскольку он не создавал прибавочную стоимость . В проекте Закона Российской Федерации о семье, материнстве, отцовстве и детстве (1992, ст. 15) предлагалось, чтобы "детское воспитание в сочетании с домашней работой были признаны как социально полезный труд".
В качестве меры реализации этой статьи проект Закона предусматривал, что "неработающие родители троих и более детей.., которые также выполняют домашнюю работу, будут получать ежемесячное государственное пособие в размере не менее, чем официальная минимальная заработная плата..." (ст. 28). Хотя эта статья не адресует такое обеспечение непосредственно женщинам, на практике большинство тех, кого ждет опыт "родительства как занятости", - это женщины.
Сегодня средняя заработная плата в феминизированных секторах экономики составляет, по расчетам автора, около 1/3 от уровня секторов с доминирующей занятостью мужчин (до перехода к рынку это соотношение составляло около 70%). В связи с этим феминистская критика так называемых трудовых привилегий для женщин более чем актуальна. Положение женщин в сфере производства и воспроизводства тесно взаимосвязано и взаимообусловлено. Когда государство провозглашает "больший выбор занятий для женщин в доме", это неизбежно означает меньший выбор сфер занятости на производстве. Не осознавая данной корреляции, женщины потеряют не только как работники, но и как матери, поскольку окажутся экономически зависимы от государства или воли мужа .
Рынок труда и женщины
Формирование рынка труда привело к возникновению принципиально нового феномена в сфере занятости :
Прогноз больших потерь, которые должны были понести женщины в сфере занятости в период реформ, оправдался .
Гендерный анализ рынка труда приводит к выводу о том, что существует явно выраженная тенденция формирования специфического рынка женской рабочей силы, характеризующегося ограниченными видами занятий, низким статусом работы и низкой оплатой труда, нестабильной занятостью и заниженными возможностями для карьеры и профессионального продвижения. Отсутствие на сегодняшний день общенациональной статистики по зарплате мужчин и женщин вынуждает постоянно прибегать для подобных выводов к результатам отдельных выборочных обследований.
Отход от коммунистической ортодоксальной доктрины открывает новую область анализа постсоциалистической экономики - стратификационно-ориентированные гендерные исследования, изучающие экономическое положение женщин, принадлежащих к вновь возникающим социальным классам.
Феминистская критика участия женщин в политике
Она была начата с анализа тех способов, которыми женщины вовлекались в эту сферу при социализме . Было показано, что их участие имело по большей части символический характер, особенно на общегосударственном уровне, и женщины были практически отстранены от реального принятия решений. Квотная система обеспечивала сохранность женского представительства в структуре советов (до 33% в парламенте России), но в то же время создавала негативное отношение людей к женщинам в политике, поскольку они рассматривались как "послушные последователи" настоящих партийных руководителей. В результате, с одной стороны, особенно в начале перестройки, женщины были совсем непопулярны как кандидаты на пост политических лидеров, а с другой - они сами часто считают политику неподходящей сферой их деятельности .
Анализ женского участия в новых политических движениях, партиях показал, что женщины не чувствуют удовлетворения ни от способов обретения политических навыков, ни от их собственного положения в этих организациях . Женщины верят, что политика должна быть "чистой, моральной, более ориентированной на конкретные человеческие нужды". Женщины часто отвергают "политику ради политики". Однако было обнаружено, что они "не видят женского вопроса" или даже рассматривают его как идеологическую концепцию, используемую советским государством для манипуляции женщинами. Желая отойти от негативного опыта коммунистических времен, женщины склонны отвергать политику позитивного действия вообще (квотную систему), утверждая, что "женщина - действительно хороший политик - выиграет без всякой квоты. Мы не инвалиды, чтобы идти к власти через привилегии".
Это исследование показывает проблематичность возможностей женского политического видения при отсутствии специальных обучающих программ для женщин-политиков.
Труд, семейное законодательство и политика
С самого начала правила, регулирующие участие женщин в экономике, были в центре феминистской критики, основные направления которой следующие:
- если понимание гендерного равенства принимается официальной политикой серьезно, то условия "сочетания работы и родительства" должны быть на равных основаниях доступны и мужчинам;
- официальное признание гендерного равенства не означает равенства в реальной жизни. Чтобы достичь этого, необходимо выработать целую систему мер, которые должны быть ориентированы на достижение именно гендерного равенства, а не на сохранение гендерной дискриминации;
- в период демократизации и перехода к рынку очень важен перенос акцента в социальной политике с "защиты материнства" (и даже "родительства") на политику равных возможностей во всех сферах жизни;
- так называемая защита труда женщин (специальные стандарты условий труда, право на неполную занятость и т.д.), которая была основной сферой регулирования труда женщин при социализме и преимущественно выполнялась только на бумаге, а на самом деле удерживала женщин на вторичных, низкооплачиваемых, низкостатусных местах и способствовала профессиональной сегрегации;
- "активная демографическая политика", ставившая своей целью стимулировать рождение третьего или четвертого ребенка, фактически являлась дискриминационной по отношению к семьям с меньшим числом детей и людям, не имеющим семьи, и, следовательно, - формой нарушения прав человека.
Кризис многих сфер социальной защиты создал ситуацию, когда потери подаются как "достижения" новой социальной системы. Один из наиболее явных примеров - ситуация с дошкольным воспитанием детей. Под предлогом низкого качества услуг в детских садах и яслях (что в определенной мере справедливо), цены на эти услуги безмерно возросли, даже, более того, здания детских садов и яслей стали продаваться или использоваться по другому назначению. Теперь женщинам предоставляется маленькое пособие - "компенсация за неиспользование общественного ухода за детьми".
Исследователи феминистской ориентации считают, что государство должно сохранять возможности общественного воспитания детей, это необходимо для поддержания гендерного равенства в сфере занятости и семьи. Тем более это необходимо в условиях обнищания значительной части населения, размер заработной платы которой приближается по своим размерам к оплате месячного пребывания ребенка в детском саду. Еще важнее пользоваться услугами детского сада больным и беженцам, которым просто нечем платить за воспитание своих детей. Государство не может сложить с себя ответственность за будущее подрастающих поколений, уповая исключительно на инициативность родителей. Деньги должны выделяться из федеральных средств.
Дает ли эта феминистская критика практические результаты?
Можно сказать, что "на бумаге" есть реакция на эту критику. Так, в результате рекомендаций, предложенных в Концепции государственной программы о статусе женщин, защите семьи, материнства и детства, с апреля 1991 года трехлетний родительский отпуск также предоставляется отцу, если он осуществляет уход за ребенком. Отцам предоставлены и некоторые другие условия для "сочетания работы и отцовства", т.е. они могут иметь очередной отпуск сразу после рождения ребенка. Однако без идеологической поддержки со стороны средств массовой информации и государства очень немногие отцы воспользуются этими правами. В то же самое время проект Закона о защите семьи, материнства, отцовства и детства очень хорошо показывает, что кооптация отцовства в родителъство вовсе не означает введения феминистской концепции в закон.
Тем не менее, критические нападки на этот закон, после
того как он прошел первые чтения в парламенте, заставили его сторонников сделать
несколько важных изменений. Так, статья, предписывающая всем женщинам, у которых
есть дети до 14 лет, иметь 35-часовую сокращенную рабочую неделю, была отменена.
Статья 33 утверждает, что дети находятся под защитой государства не с момента
зачатия, а только после рождения. Таким образом, удалось освободиться от риска
запрета права на аборт. Есть также некоторые другие позитивные изменения, которые,
однако, не стоит переоценивать, потому что в целом это просто поправки к плохому
закону, где принятие современной политики продвижения женщин маловероятно.
Тем
не менее, гендерный анализ текущей политики и закона является постоянным содержанием
женских исследований в России.
Социологические и методологические проблемы
Критика языка. Одна из первых проблем, с которыми столкнулись ученые-феминисты в России - использование языка эмансипации. Слова типа "равенство", "солидарность", "социализм" заклеймили как связанные с уходящей системой, а потому непригодные для нового "демократического" дискурса. Таким образом, от постановки проблемы "равенства" женщин в новых условиях отказались только потому, что она входила в социалистические программы.
Сходные сложности возникли в связи с употреблением марксистской методологии. Исторический подход к анализу социальных явлений, столь значимый для женских исследований, мог быть отвергнут только на том основании, что он являлся марксистским.
Следуя за дискуссиями среди феминисток , было решено ввести в русский язык слово гендер, чтобы избежать всяких ложных коннотаций и создать ситуацию, когда людям будет интересно содержание незнакомого слова. Введение концепции гендера, с одной стороны, позволило расширить различия между биологической и социальной сторонами в конструировании феминности и маскулинности, соотносясь с другой традицией, нежели "чистый марксизм" (здесь мы отвлекаемся от всякого дискурса о "несчастливом браке марксизма и феминизма" как практически неизвестного для российской социологии), с другой стороны, оно явилось важным инструментом для того, чтобы избежать критики относительно "забвения мужчин". Но, что было особенно важно, оно открыло возможность введения женских исследований в России в глобальные феминистские дебаты, позволяя преодолеть их историческую изоляцию, как и претензию (ненамеренную) быть "совершенно специфическими".
Несомненно, что использование понятия "гендера" в значительной мере содействовало академическому признанию женских исследований и также позволило сохранить их феминистское содержание.
1
- Гендерные аспекты социальной трансформации. М.: ИСПИ РАН, 1996. -с. 11-24.
2 - Захарова Я., Посадская А., Римашевская Н. Как мы решаем женский
вопрос // Коммунист. 1989. № 4.
3 - Концепция государственной
программы о статусе женщин, защите семьи, материнства и детства. М.: Институт
социально-экономических проблем народонаселения АН СССР, 1991.
4
- Гендерные аспекты социальной трансформации: экономика, политика, культура /
Годовой отчет Центра гендерных исследований. М.: ИСЭПН РАН, 1992.
5
- Мезенцева Б. Равенство возможностей в сфере занятости или "защитные"
меры: женщины перед лицом выбора // Женщины и социальная политика. М., 1992.
6 - Климеикова Г. Перестройка как гендерная проблема // Статья,
представленная на конференции "Гендерное реструктурирование - перестройка
в российских исследования". Хельсинки, 19-23 августа 1992.
Термин «гендерные исследования» (gender studies) появился в мире не так давно, в 1980-е годы, когда в университетах Западной Европы и Северной Америки были открыты соответствующие факультеты и кафедры. Тогда же в Европе появились ассоциации и научно-исследовательские центры, ведущие разработки гендерной проблематики. Возраст академических курсов женских исследований (women"s studies) примерно на десять лет старше. Параллельно было учреждено и несколько академических программ феминистских исследований (feminist studies). В этом разделе мы рассмотрим эволюцию женских и гендерных исследований на Западе, обсудим задачи и особенности их развития.
Женские исследования как академическая дисциплина уходят корнями в феминизм первой волны, в феминистскую критику традиционной науки и высшего образования, которая стала особенно влиятельной после опубликования в 1949 году книги Симоны де Бовуар «Второй пол». Однако академическое образование лишь недавно стало характеристикой истории женского движения, во время второй волны феминизма. Ряд курсов по вопросам роли женщин в истории, литературе существовал и ранее, правда, они были разрозненными и единичными, и вплоть до начала 1970-х годов женские исследования не фигурировали под таким именем в университетах и колледжах США. Первая программа женских исследований была открыта в 1969/70 учебном году в университете Сан-Диего. В тот год в университетах США в целом насчитывалось лишь 17 лекционных курсов о женщинах. Однако к 1980 году число таких дисциплин выросло до 20 тысяч, а количество программ, или специальностей, существующих в рамках традиционных или новых самостоятельных кафедр и факультетов, уже равнялось 350.
Несмотря на продолжающиеся споры о том, считать ли женские исследования прямым следствием женского движения, а также непрекращающуюся дискуссию о характере связи академического феминизма и феминистской политической практики, факт остается фактом: первые курсы женских исследований в высшей школе были организованы непосредственно под влиянием женских движений 1960-1970-х годов. Теоретический анализ тогда считался важнейшим условием социальных изменений (что, кстати, было характерно для эмпирической американской социологии в целом), а исследование угнетения женщин ассоциировалось с поиском возможностей преодоления неравенства в патриархальных и капиталистических обществах. Тесная связь теории и практики была главным принципом развития данной академической области в США, и тем самым политический характер знания, в том числе феминистского, казался совершенно очевидным и просто необходимым.
Женские исследования возникли в США в конце 1960-х годов одновременно с этническими (Ethnic Studies) и черными (Black Studies) исследованиями в ответ на растущую критику в адрес академии как необходимый шаг с целью пересмотра роли женщины и других маргинализованных групп в обществе. В эти годы женщины Западной Европы и США выступали в феминистском освободительном движении, отстаивая свои гражданские и экономические права. Утверждая, что «личное есть политическое», феминистки начали открыто обсуждать то, о чем раньше говорилось лишь шепотом, например сексуальность, изнасилование, сексуальное насилие в форме инцеста и домашнее насилие. Для феминисток было ясно, что все эти проблемы неразрывно связаны между собой, и чтобы достичь свободы для женщин, необходима борьба по каждому отдельному вопросу.
Академические, социальные и политические цели феминистского освободительного движения развивались бок о бок с освободительными движениями чернокожих, американских индейцев и сексуальных меньшинств, движениями за гражданские, студенческие права и антивоенными выступлениями. Все эти социальные группы, имеющие представителей в академическом сообществе и вне его, убедительно доказывали, что их культурные практики, жизненный опыт и представления о социальном мире очень важны для понимания и развития современного общества. Эти движения, получившие название политик идентичности, способствовали институциализации программ женских и гендерных исследований, программ изучения этничности и сексуальности. Кроме того, деятельность движений привела к увеличению числа женщин и представителей меньшинств в различных академических сферах.
Первая стадия развития женских исследований в США (конец 1960-х -- 1970-е годы) характеризовалась усилиями по созданию новой академической области. Изучение женщин изначально появилось в рамках традиционных академических дисциплин (в основном, речь идет о литературе, истории, философии, социологии и психологии). Преподавание многочисленных и разнообразных курсов было начато официальным и неофициальным образом, в различных условиях, часто по настоянию студентов. Первые феминистские требования, предъявляемые к университетам, были связаны с «внесением» женщин в учебные планы, учебники, издательские каталоги. Несправедливо забытые труды женщин были опубликованы и начали использоваться в учебном процессе, а ученые стали связывать темы своих исследований с проблемами женщин и гендера. Многие из новых курсов были включены в учебные планы существующих специальностей: психологии, социологии, философии или истории, -- а в нескольких колледжах и университетах получили развитие самостоятельные программы женских исследований. Преподаватели большей частью были подготовлены в сфере гуманитарных дисциплин: литературы, социологии, психологии и истории. Вскоре стало ясно, что подход «добавить женщину» был недостаточным, поскольку ни одна из традиционных дисциплин не была в состоянии предоставить полноценное понимание жизни женщин. В течение 1970-х годов была осознана необходимость более целенаправленного развития самостоятельных программ женских исследований многими университетскими преподавателями и учеными.
Женские исследования (Women"s Studies) стали определяться как университетская программа (факультет, центр, кафедра, специальность), где можно получить знания о мире и людях с разнообразных междисциплинарных и феминистских позиций, а главное -- с женской точки зрения. Именно это отличало программы женских исследований от факультетов социологии, психологии, философии, экономики или истории. До недавнего времени как женщины, так и мужчины смотрели на мир с мужской перспективы, поскольку все теории о людях, нашей природе и нашем поведении были созданы учеными-мужчинами. Когда собственный опыт женщин помещается в центр познавательного процесса, это позволяет ставить новые аналитические вопросы, развивать оригинальные теории и вносить существенный вклад в понимание нас самих и нашего мира.
Организация в 1977 году Национальной ассоциации женских исследований способствовала распространению новых программ. Эта ассоциация начала проводить ежегодные конференции, публиковать журнал, проводить мониторинг программ и рассылать информацию по университетам США. Надо отметить, что финансовая поддержка женских исследований в ту пору была очень слабой. Например, в университете Нью-Мехико, где программа начала свое существование с 1972 года, год спустя было выделено 150 долларов, из которых 2/3 было выплачено в качестве гранта аспирантке, работавшей помощником координатора, а 1/3 предназначалась на расходные материалы.
Вторую стадию развития женских исследований можно отсчитывать с начала 1980-х годов. В этот период происходила интеграция женских исследований в высшее образование США, или развитие «гендерно-сбалансированных учебных планов» посредством введения новых знаний о женщинах в традиционные дисциплины. Этот период можно назвать «мэйнстримингом» женских исследований, поскольку усилия были направлены на приведение к общему знаменателю идеологии высшего образования. Этот общенациональный проект был поддержан государственными и частными фондами. Например, фонд Форда спонсировал перестройку образовательных программ (специальностей) в университете Аризоны. И хотя многие университеты не получили достаточного финансирования, именно во второй фазе своего развития женские исследования были институциализированы. Наиболее богатые программы открыли исследовательские институты и центры, издавали собственные книги и журналы, а некоторые даже приобрели статус отдельных факультетов. В университетах началось широкое обсуждение статуса женщин, явлений дискриминации в публичной сфере и частной жизни, гендерных предрассудков, существующих в социуме, литературе и образовании. Были учреждены журналы в области женских исследований, в том числе Feminist Studies, Women"s Studies, Signs, Quest, Sex Roles, Women"s Studies Newsletter. Были опубликованы антологии и хрестоматии по женским исследованиям.
Известно, что знание о людях и мире разделено на дисциплины, и некоторые из них имеют давнюю и богатую традицию (например, история и философия). Ряд других -- психология, социология, экономика -- начали развиваться как самостоятельные направления знания лишь одно или два столетия назад. А есть и совсем новые способы изучения мира или его фрагментов, например генетика, теории коммуникаций или киноведение. Независимо от своего возраста каждая из этих дисциплин обладает относительно самостоятельным способом познания, базируется на некотором наборе исходных положений, явных и неявных установок, выраженных в форме непреложных истин и этических представлений. Эти истины, представления и предпосылки становятся для ученого руководством к действию, причем следующие из них выводы и интерпретации не являются одинаково истинными для женщин и мужчин. Они не всегда соответствуют женскому опыту и могут неверно объяснять женское поведение. Фактически это изучение мира с позиции мужчин.
В свою очередь, женские исследования фокусируются на женском опыте и стоят на таких положениях, которые могут помочь воссоздать женский мир. Поэтому женские исследования -- это не только дополнение и исправление традиционных наук; это еще и новая самостоятельная академическая дисциплина, которая требует от других дисциплин пересмотреть их основания и объяснительную логику. В качестве новой дисциплины женские исследования не только ставят под сомнение основные методы и гипотезы традиционных наук, но и представляют свежий и цельный взгляд на мир посредством междисциплинарного анализа. Это позволяет изучить любой вопрос с разных сторон и подвергнуть критике однобокое видение предмета в традиционных дисциплинах, тем самым стимулируя их развитие. Здесь подвергается сомнению сам факт разделения знания на отдельные, изолированные дисциплины. Женские исследования -- это попытка привнести фундаментальные изменения в академию посредством научного поиска. Их роль в академическом сообществе и феминистском движении все еще обсуждается; их особые перспективы, цели и задачи постоянно формулируются, дебатируются и переопределяются.
Безусловно, традиционные дисциплины (например, психология, история, антропология) исследуют не только мужчин, но и женщин. Однако если приглядеться, мы увидим большие пробелы, заблуждения и неточности в научных знаниях. Мы лишь начинаем понимать, как мало нам известно о половине человеческого рода -- женщинах. Что, например, нам известно о женщинах в античности и средневековье? Как нам понять и узнать женщин этого периода, если мы полагаемся лишь на документальные материалы, оставленные мужчинами и о мужском опыте? Долгое время археологи разрабатывали и подтверждали теории о происхождении и развитии человека, расширяя знания об орудиях труда и нормах поведения, ассоциируемых с мужской сферой деятельности -- охотой. Однако когда антрополог-феминистка Сэлли Слокам в 1975 году спросила, чем в ту эпоху занимались женщины, то выяснилось, что у нас весьма скудные сведения о женской деятельности в доаграрных обществах. Одной из задач женских исследований является поиск недостающей информации о женщинах прошлого и настоящего: писательницах и художницах, мыслителей и поэтессах, тех, кто обеспечивает питание своей семье, кто занят торговлей и ремеслом, простых и знатных, неизвестных и прославленных. Историки считали, что имеют богатую информацию об эпохе Возрождения до тех пор, пока историк-феминистка Джоан Келли в 1977 году не поставила вопрос: а был ли Ренессанс у женщин? В самом деле, чем занимались европейские женщины этого периода?
По словам Элизабет Повинелли, антропология, как и другие академические дисциплины, первоначально была андроцентричной, с глубоко укорененной ориентацией на мужчин. Например, когда антропологи желали изучать ритуальные верования австралийских аборигенов, они собирали информацию только о мужских ритуальных практиках этой группы, ошибочно признавая их наиболее важными. Иными словами, мужские роли были не только в центре анализа, к ним относились как к образцам, представляющим обычаи, верования и жизненный опыт всей общины. Основной предпосылкой феминистской антропологии выступает идея, согласно которой для того, чтобы понять особенности и возможности социальной жизни людей, необходимы исследования женских ролей, убеждений и практик в обществе.
Каждая дисциплина применяет специфические теории об устройстве мира и особые методы, приспособленные для изучения. Женские исследования -- очень молодая отрасль науки, которая только начинает определять свои потребности в специальных знаниях и методах, а когда это необходимо, отстраняется от традиционных подходов. Ряд концепций и методов был взят женскими исследованиями из других дисциплин, однако при этом они были дополнены женской точкой зрения. Сегодня уже можно говорить о том, что женские исследования не только заимствуют методы и концепции, но и способствуют развитию многих других, в том числе и традиционных, дисциплин. Здесь формулируются новые вопросы и пересматриваются прежние объяснительные модели, появляются новые теории и методы исследования. В свою очередь, женские исследования используют наработки, выводы и открытия других дисциплин, чтобы развивать междисциплинарное знание о женщинах.
Например, для того чтобы исследовать гормональные циклы женщин, требуются знания о воздействии эмоций на биологические функции, а также сведения из экологии и генетики. Если мы хотим понять изменения в практиках воспитания детей в определенных культурно-исторических и социально-экономических контекстах, нам нужны методы и материалы биологии, чтобы узнать о лактации; экономики -- об условиях, в которых женщины принимают решения о том, как воспитывать детей; психологии -- о том, как женщины воспринимают эти условия; антропологии -- о культурных традициях воспитания детей; диетологии -- о воздействии различных практик питания на матерей и детей; политологии и юриспруденции -- о системе формальной поддержки (или недостатке таковой), важной для принятия решений в связи с воспитанием детей. Возможно, в каждой из названных дисциплин вопросы ставятся несколько иначе, но женские исследования во многом полагаются на развитие этих областей знания, черпая из них средства для ответа на эти вопросы (Introduction to Women"s Studies, 1983, p. 6-7). Впрочем, в женских исследованиях, безусловно, многие вопросы формулируются впервые, ибо традиционные дисциплины таких проблем еще не касались. Аналогичные вопросы затрагивают, помимо женщин, и другие группы людей, о которых обычно наука умалчивала: расовые, этнические, сексуальные меньшинства, инвалиды.
Одна из причин, по которой женщины были «невидимы», имеет отношение к нашему молчанию о самих себе. Женщины обычно исключались из публичного дискурса и ассоциировались с домашней сферой, семьей и «женской работой». Из-за того, что женщин редко обучали грамоте, имеется очень мало документальных источников о жизни наших праматерей. По сравнению с большим числом художников-мужчин, лишь немногие женщины участвовали в создании произведений искусства и архитектуры -- того, что традиционно изучается историками. Многие женщины, которые выражали себя в творчестве, делали это посредством музыки, танца, вышивки, ткачества и ковроткачества, плетения, вязания, лоскутного шитья -- а ведь все эти формы являются хрупкими, эфемерными и анонимными. Женщины по-прежнему слабо представлены в мире художественного истэблишмента среди тех, чьи картины висят в музеях, а книги публикуются (Introduction to Women"s Studies, p. 8). Женщины редко играли решающую роль в промышленности или доминантных религиях, продолжая оставаться исключенными из сферы такого лидерства и сегодня.
Для ученых, представляющих женские исследования, прежде всего было важно восполнить пробелы в потоке академических публикаций различных дисциплин в отношении работ, подготовленных женщинами и анализирующими жизнь и достижения женщин. В процессе выполнения этой задачи стало очевидно, что основные понятия, которыми оперируют те или иные академические дисциплины, исключают возможность адекватного выражения женского опыта. Для того, чтобы женщины не были просто «аномальной сноской» (Kesselman, McNair, Schniedewind, 1995, p. 8), а попали в центр внимания науки и социальной практики, следовало внести изменения в те установки и язык, которые структурируют академическое знание.
Отметим, что процессы институциализации женских исследований в 1980-е годы вызвали к жизни дискуссию, которая продолжается и сегодня. Эта дискуссия развернулась вокруг перспективы развития женских исследований как отдельной дисциплины в противовес идее диффузии нового знания среди традиционных дисциплин. Споры вызвал междисциплинарный характер женских исследований, который, казалось, ставил под вопрос самостоятельный статус этой дисциплины и указывал на ее очевидную интеграцию с традиционными отраслями знания. Так появляются специальности «психология женщин», «история женщин» и «женская литература». Вместе с тем вся эта научная деятельность создает основу для формулирования новых теорий и понятий, которые изучают женщин с нонсексистской перспективы. По этой причине многие уверены, что женские исследования могут претендовать на статус самостоятельной дисциплины, а не просто фигурировать в рамках раздела о женщинах внутри уже существующих дисциплин. Все большее число людей получают степень магистра или доктора в области женских исследований, а также специализируются по одной из субдисциплин внутри самой женской программы. И все же эта самостоятельная дисциплина не остается изолированной в поле взаимодействия традиционных и новых наук. Сегодня растет число тех, кто относит женские исследования именно к междисциплинарному знанию , которое усиливает интеллектуальную власть академических феминисток, позволяет ученым привлекать информацию о женщинах из всех других академических дисциплин и выбирать любые перспективы, информацию и подходы, наиболее применимые к отдельно взятому вопросу. При этом в женских исследованиях могут быть оговорены собственные концептуальные рамки, которые будут проверять, пересматривать и расширять прежние теории.
Одной из задач развития программ женских исследований в университетах США было женское образование. Образовательные учреждения в недавней истории США слишком во многом ограничивали, а не усиливали позицию женщин. Практики образовательных учреждений часто поощряли девочек и женщин выбирать свою карьеру в традиционно «женских» сферах. Школы и учителя были склонны поощрять покорных и скромных, а не настойчивых и инициативных учениц. В тех аудиториях, куда студенты попадали после школы, женщины также зачастую играли маргинальные роли. Образовательные учреждения отражают гендерную стратификацию общества и культуры в целом, демонстрируя на своем примере неравный статус женщин и мужчин.
Атмосфера на курсах женских исследований отличалась от той, которая царила в большинстве школьных или академических аудиторий. Образовательная программа по женским исследованиям возникла как академическая дисциплина именно из-за того, что женщины ставили вопросы о своем собственном опыте, и это до сих пор остается центральным звеном образования. Преподаватели женских исследований обычно стимулируют студентов не только задавать вопросы по пройденному материалу, но и обсуждать собственный жизненный опыт. Ценности феминизма, включая критику всех форм доминирования, акцент на сотрудничестве и стремление к интеграции теории и практики, оформили подход к преподаванию, называемый феминистской педагогикой, которая превращает аудиторию в интерактивную обучающую среду, интеллектуально и эмоционально вовлекающую всех студентов.
Третья стадия развития женских исследований относится к середине 1980-х годов и связана с продолжением реструктуризации учебных программ в направлении включения опыта меньшинств, большей толерантности, чувствительности к различиям учащихся. Еще в 1970-х и особенно в 1980-х годах академические программы женских исследований подвергались критике со стороны многих авторов, в частности женщин, представляющих этнические, расовые и сексуальные меньшинства. Чернокожие женщины выдвигали вполне обоснованные требования включить в концептуализацию женственности расовые, этнические и классовые различия. В некоторых университетах были открыты специализации по «черным» женским исследованиям, которые теснее всего были связаны с программами афро-американских исследований. В 1983 году был учрежден новый журнал SAGE: A Scholarly Journal on Black Women. Женские исследования подверглись также критике за гетеросексизм, исключение лейсбийского опыта.
В тот период учреждаются новые журналы, финансируются проекты и сетевые программы для «цветных» женщин в высшей школе, проводятся конференции, семинары и летние школы. В результате этого развития произошли серьезные трансформации феминистской мысли, которая теперь отрицала эссенциализм, характерный для определения категории «женщина», и концептуализировала множественные идентичности женщин, подразумевающие, но не сводимые к категориям расы, этничности, экономического и профессионального статуса, работы, возраста, сексуальной ориентации, религии, национального происхождения и культуры. Кстати, подобные изменения коснулись и традиционных дисциплин. Вместе с тем надо отметить, что в 1996 году доля белых женщин среди администраторов программ женских исследований составила 93%. И все же в 1980-х годах среди тех, кто выдвигал критические аргументы в адрес женских исследований, стали более отчетливо слышны голоса латиноамериканских, азиатско-американских женщин и представительниц коренного населения Америки.
Начиная с этого периода феминизм продолжает развивать все более мультикультурную перспективу, учитывая опыт женщин всех рас, этнических групп, социальных слоев и сексуальных ориентаций. «Черный феминизм» (black feminism), например, рассматривает особое положение афро-американских женщин в американском обществе. Элис Уокер принадлежит красноречивая мысль о том, что черный феминизм, или вуманизм, основывается на исторической силе черных женщин в их семьях и общинах и богатой афро-американской традиции сопротивления и выживания. Черные феминистки сделали также упор на понятии «множественного сознания»: речь идет о том, что в жизни цветных женщин США взаимодействуют одновременно различные системы расизма, сексизма и расового угнетения. Эти исследователи представили афроцентристскую перспективу в истории женщин взамен евроцентристской, что позволило оценить те властные роли, которые играют женщины в африканских обществах. Еврейские феминистки обратились к традиции еврейского женского сопротивления, проанализировали культурный смысл расистских и сексистских оскорбительных стереотипов, раскрыли смысл антисемитизма для еврейских женщин и важность связей между разными группами угнетенных людей, поставив вопросы: «если не я за себя, то кто?» и «если я только за себя, то что я такое?». Обсуждая эту мысль, Мелони Кей Кантровиц отметила, что «самое лучшее в людях -- это устойчивая зависимость между уважением себя и уважением другого».
Азиатско-американские и латиноамериканские феминистки отметили напряженные отношения между американской и эмигрантскими культурами, а также выявили общие потребности женщин упрочить их культурное наследие, но отвергнуть содержащийся там сексизм. Традиционная японская культура, например, требует покорности и послушания от женщин, которые должны ставить честь семьи превыше собственных потребностей. Азиатско-американские феминистки выступают против мифов об азиатской женской сексуальности, мифов, появившихся из взаимной игры западных стереотипов о восточных женщинах с ожиданиями от женщин в азиатских культурах. Латиноамериканские феминистки показали в своих работах, как важно порой достигать компромисса между требованиями латиноамериканских общин и женского самоопределения. Феминизм для латиноамериканок и женщин других расовых групп означает работу вместе с мужчинами над решением их общих проблем, связанных с социальным неравенством, а также направленную на изменение сексистских или мачистских установок внутри общины. Феминистки, представляющие коренное население Америки, вносят в современные женские исследования многие традиционные ценности и практики коренных американских культур, в центре которых находится женщина. История коренных женщин Америки и то, как они видят единение с землей, ощущают ответственность по отношению к окружающей среде, являются важными вопросами для многих сегодняшних феминисток США.
Итак, на третьей стадии развития женские исследования в США поднялись на качественно новый уровень. Ученые стали обращать внимание на разнообразие женщин в аспектах расы, этничности, класса, религии, национальности, сексуальной ориентации, возраста, инвалидности. Подобные моменты учитывались и в образовательных программах, кроме того, во многих университетах факультеты женских исследований стали тесно сотрудничать с факультетами этнических исследований и мультикультурализма. Это способствовало тому, что академический мир становился не только более терпимым, но и более внимательным, заинтересованным в отношении многообразия и особенностей людей. Мерсели Дженкинс разработала советы для преподавателей, которые желают создать атмосферу толерантности и равноправия на своих занятиях. Вы можете проверить себя, воспользовавшись ее предложением, и расширить этот список, включив в него вопросы относительно инвалидов, мигрантов, этнически или культурно чужих для большинства аудитории.
Идеи и проблемы разных групп женщин расширяют границы феминизма, способствуя развитию теории мультикультурализма и практики освобождения всех людей. Вместе с тем необходимо осознавать, что все исследователи являются выходцами из разнообразных культур и социальных классов. Женщины-участницы движений и исследователи представляют разные расы, этнические группы, профессиональные интересы и возрастные группы, они привносят различные интересы и представления, что иногда затрудняет взаимопонимание и препятствует консенсусу. Женщины разделены не только расой и классом, но также возрастом и сексуальной ориентацией.
Вследствие такой дифференциации и индивидуализации интересов «феминизм переопределяется как рынок самопомощи индивидуализированных потребителей», и в этом случае «политики борьбы за равенство ложатся на дно». Тем, кто, прежде всего, относит себя к дискриминируемым группам, трудно распознать схожесть интересов разных женщин. В другом случае в качестве непримиримых «врагов» могут рассматриваться женщины и мужчины. Чтобы достичь определенного уровня самооценки, люди обычно делают акцент на позитивной стороне собственных отличий и высоко оценивают те черты, которые отличают их как группу. В связи с этим, например, мы не хотим быть «ассимилированными» в соответствии с ценностями других, а настаиваем на том, чтобы другие принимали нас «такими, какие мы есть» с нашей точки зрения. Поэтому свобода от расистского, этнического или классового угнетения может казаться людям самым высоким приоритетом, а фокусирование на различиях между женщинами и мужчинами может казаться им предательством общего дела. Но «чем лучше мы понимаем барьеры, существующие в жизни всех женщин, тем более ясными становятся наши различия и удачнее формулируются феминистские цели, которые направлены на проблемы всех наших сестер».
Отличительная черта женских исследований -- это развитие коллективных способов действия. Хотя женщины-ученые, медики, художники и многие другие работают в одиночку, они часто объединяют свои ресурсы (знания, навыки и энергию) для коллективной работы, результат которой делает акцент не на индивидуальных усилиях, а на совокупном усилии группы. Во-первых, коллективное действие представляет взаимную поддержку в трудном начинании. Во-вторых, многие проблемы требуют экспертизы не одного человека, а специалистов разного профиля или опыта.
Четвертая стадия развития женских исследований началась в 1990-х годах и была связана с развитием глобальной инфраструктуры и повышением внимания к международным проблемам женщин. Распространение образовательных программ и исследовательских проектов по проблемам женщин и гендера в странах Западной Европы, Африки, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки привело к интенсивному обмену информацией, опытом и ресурсами между учеными и преподавателями. Были основаны регулярные международные летние институты, конференции и конгрессы, проводимые при поддержке многочисленных женских организаций. Образовательные программы приобретали международную, глобальную ориентацию, в частности, в связи с растущим числом публикаций, вышедших в постколониальных государствах и странах третьего мира. Эти программы делают акцент на вопросах политики, социально-экономического развития, проблемах милитаризма, репродуктивных прав, беженцев, работы и семьи.
За последние тридцать лет были опубликованы тысячи книг и статей, оспаривавших старые предрассудки и осваивавших новое интеллектуальное пространство. Иногда можно услышать мнение о том, что в конце 1990-х годов рынок труда в академической среде, например в американских университетах, оказался заполненным, отмечается невостребованность выпускников, получивших степень PhD, в том числе в области женских исследований. Женские исследования начинают рассматриваться не как образовательный капитал для карьеры университетского преподавателя, а как источник дополнительной экспертизы в отношении активизма и деятельности правительства. Совершенно очевидно, что люди с такой подготовкой вносят существенный вклад в строительство демократии и социальное развитие. В связи с этим сегодня говорят о том, что, возможно, предложение будет определять спрос, иными словами, рост числа подготовленных специалистов в области женских исследований будет способствовать социальному заказу на них. Например, сегодня некоторые специалисты с учеными степенями по женским исследованиям заняты в программах гражданского образования в средних школах и общинах. Благодаря такому влиянию в обществе распространяется феминистское знание, в преподавательскую практику внедряется опыт педагогики свободы, а задача гражданского образования переформулируется от натурализации иммигрантов к формированию опыта гражданственности. Речь идет об опыте индивидуальной и коллективной ответственности, социального участия, толерантности и равноправия. Вот почему в обществе растет спрос на таких экспертов, учителей и художников, которые могут способствовать дальнейшему строительству демократии.
В 1980-1990-х годах появляются программы женских и гендерных исследований в Европе : открываются новые отделения, ряд факультетов и центров переименовываются либо прибавляют еще один компонент к своему прежнему имени. Магистратура междисциплинарных женских исследований (Graduate School of Interdisciplinary Women"s Studies) университета Уорика (Великобритания) в 1993 году реорганизуется в Центр исследований женщин и гендера (Centre for the Study of Women and Gender) со следующими основными задачами: обеспечить критическую перспективу дискуссии по женщинам и гендеру, осмыслить разнообразие феминистских подходов и важность категории «различия» в современных феминистских исследованиях; развить знание о разнообразии исследовательских методологий в женских исследованиях; способствовать осознанию философских и этических вопросов, возникающих в исследовательской ситуации; осмыслить смещение акцента в феминистской теории и методологии в направлении философии, осуществлять феминистскую критику биологии и культурных исследований.
В тот же период открываются новые самостоятельные кафедры и программы, учреждаются исследовательские ассоциации, в названии которых присутствует термин «гендер».
Так, Международная сеть гендерных исследований, образованная в 1996 году при Гендерном институте Лондонской школы экономики, в число своих задач включает следующие: поддерживать проекты и другую деятельность в сфере гендерных исследований; развивать теории этики, справедливости и демократии; расширять перспективы социальной политики посредством исследований, международного сотрудничества ученых, исследовательских центров, неправительственных организаций, средств массовой информации, бизнеса и политиков. Проекты разрабатываются в следующих направлениях: гендер и социальная философия; теории этики, справедливости и репродуктивных прав; культурные конфликты, коллективные идентичности и гендерные отношения; гражданство, мобильность и сотрудничество; равные возможности и образование в течение всей жизни; перспективы трансграничных форм демократии. Основной принцип -- сочетание этики, теории и прагматики. Гендерные исследования носят междисциплинарный характер, преодолевая традиционные рамки социальных наук, используют сравнительный подход, подчеркивая общность и различия между странами и регионами. Они дифференцируются по своей структуре, характеру и задачам, хотя часто имеют общие темы и цели (например, борьба против насилия). Исследовательские дискуссии, обмен идеями и результатами, освоение новых предметных областей стимулируется благодаря развитию современных информационных технологий.
Еще пример: Центр гендерных и женских исследований в университете Ньюкэсл (Великобритания) был основан в 1996 году с целью развития междисциплинарных курсов и проектов; деятельность центра посвящена интеллектуальному освоению того, как конструируются маскулинность и феминность, а также политическому признанию форм неравенства и поиску возможных способов достижения равенства. Особо выделяются проекты на следующие темы: идентичность и репрезентации, конструкции маскулинности и феминности в международном масштабе; семья, право и меняющиеся дискурсы гендера; гендер и пространство; сексуальности; теории инаковости (queer theory); равные возможности, работа и образование; насилие и нарушение прав; феминистское движение и феминистская теория.
Научные исследования в области женского предпринимательства существенно расширились в последнее десятилетие. Предметные области современных исследований включают не только описательный контекст, но и такие вопросы как формирование предпринимательского и финансового капитала, особенности управления женскими предприятиями, устойчивость женских предприятий и др.
Одним из методологических пробелов в исследованиях является трактовка понятия «женщина- предприниматель». Термину «женщина-предприниматель» трудно дать точное определение, так как не существует общепринятой дифиниции в академическом секторе. Предпринимательство, как область исследования, рассматривается экспертами из нескольких дисциплин, в том числе социологии, психологии и экономики. Междисциплинарность приводит к появлению и использованию разнообразных трактовок основных терминов. Определение женщины-предпринимателя варьируется от одного научного исследования к другому, при этом многие исследования не полностью учитывают различные критерии, связанные с определением женщины-предпринимателя. Ко всему прочему разнообразные национальные законодательства не позволяют придти к унификации в данном вопросе.
В этой связи следует выделить ряд проблемных вопросов
1. Какой процент собственности организации (компании) должен находиться под контролем женщины, чтобы она считалась принадлежащей женщине? В некоторых исследованиях отмечается, что женщина должна владеть, по крайней мере, 50% от компании для того, чтобы компания считать ей принадлежащей, в то время как другие исследования не делают это различие.
Х. Ли-Госселин и Дж. Гризе изучали женщин-предпринимателей в Канаде и оперировали термином женщины-предпринимателя в соответствии со следующими критериями: они должны владеть как минимум 1% предприятия, нести ответственность, по крайней мере, за одну управленческую функции (маркетинг, бухгалтерский учет, человеческие ресурсы или другие), а также работать на предприятии.
К. Инман изучал женщин-предпринимателей в США и учитывал следующие критерии: женщины должны владеть более чем 51% бизнеса, иметь менее 500 сотрудников, являтся основателем бизнеса (за исключением покупки или наследовании предприятий), управлять бизнесом, работать полный рабочий день на предприятии и получать большую часть своих доходов именно от предпринимательской деятельности.
2. Должны ли исследования по проблемам женщин-предпринимателей учитывать только те компании, которые учреждены женщинами или же они должны также рассматривать компании, которые были приобретены женщинами? Некоторые исследователи считают, что термин предприниматель относится только к людям, которые образуют новые предприятия, в то время как другие считают, что этот термин можно отнести и к владельцам компаний, не различая способ получения права собственности (покупка, наследование или создание).

Э. Шварц определила предпринимателя как «инновационное физическое лицо, которое создает и строит бизнес, которого до этого не было». Р. Хизрич и К. Браш определили предпринимателя как человека, который «создает новые ценности, посвятив необходимое время и усилия, принимая финансовые, психологические и социальные риски, и получает денежное вознаграждение и личное удовлетворение». Р. Беннет и С. Дэнн определяют предпринимателя, как «человека, который создал предприятие как новое, ориентированное на рост, с целью получения прибыли и достижения личного удовлетворения».
В соответствии с данной трактовкой, женщина-предприниматель – это предприниматель в строгом смысле слова
3. Должны ли исследования женщин-предпринимателей включать самозанятых женщин или женщины должны создавать новые рабочие места для других, чтобы считаться предпринимателями? Некоторые исследования считают, что термин предприниматель относится только к работодателям, в то время как другие рассматривают самозанятость как предпринимательскую деятельность.
Самозанятыми являются лица, которые работают на себя. Согласно этой трактовке, даже если владелец бизнеса рассматривается как самозанятые, самозанятое лицо не обязательно является владельцем бизнеса. Для того, чтобы рассматриваться в качестве собственника бизнеса, такой бизнес должен быть создан как предприятие, т.е. организация, которая преследует определенные цели.
4. Должны ли исследования по проблемам женщин-предпринимателей принимать во внимание тот факт, что они активно участвуют в управлении бизнесом или женщины-предприниматели могут просто быть владельцами компании, не будучи подключенным к руководству ею? Некоторые исследователи считают, что термин предприниматель относится только к владельцам компании, не делая никаких различий относительно руководства, в то время как другие считают, что предприниматель, в дополнение к владению бизнесом, также должны быть вовлечены и в управление им.
Р. Аидис утверждает, что понятие предпринимателя связано с инновационным поведением; в исследовании было отдано предпочтение термину бизнес-собственник, то есть, человек, который имеет свой собственный бизнес, и который принимает активное участие в его работе. Это определение не принимает во внимание то, как было получено право собственности, и не делает различие между работодателем и самозанятым.

Для А. Смита-Хантера, предприниматель связан с созданием нового бизнеса и он может управлять им или нет
Если предприниматель не принимает участие в управлении, то будет является только инвестором.
5. Должны ли исследования женщин-предпринимателей принимать во внимание цели компании? Некоторые исследователи считают, что термин предприниматель должен применяться только к людям, чьи цели связаны с получением прибыли и ростом и исключают владельцев малого бизнеса, созданных с главной целью – достижения личных целей и выполнения семейных потребностей; в то время как другие исследователи не делают никакого различия между ними.
Учитывая перечисленные факторы предлагаем следующее определение: женщина- предприниматель – женщина. Которая владеет 50% или более формальной организации (независимо от того, как она получила право собственности и количества наемных работников). Которая активно участвует в ее работе в качестве руководителя или администратора, которая преследует цель извлечение прибыли.
Данное определение, на наш взгляд, отражает особенности осуществления предпринимательской деятельности в современной экономике. Основными тенденциями которой являются развитие сетевых структур, смещение акцента на аутсорсинг, информатизация управления и др.
Вконтакте
Женские исследования (Women’s Studies) представляют собой начальный этап гендерных исследований (1970-е гг.). Социально-политический контекст появления женских исследований задали либералистские идеи (эмансипации, равенства, автономии, прогресса), нашедшие отражение в: (1) молодежных движениях конца 1960-х и революции «новых левых», (2) сексуальной революции, которая в итоге дала больше женщинам, чем мужчинам, и (3) связанной с сексуальной революцией - «второй волной» феминизма.
Теоретический анализ отношений полов был необходим в связи с изменением (по сравнению с XIX веком и «первой волной» движения) целями феминисток: от борьбы за равенство прав, которое уже было зафиксировано в законах многих стран, они перешли к борьбе за равенство возможностей для женщин, от «феминизма равенства» к «феминизму различий», к требованию признать «особость» женского социального опыта. Главной целью «шестидесятниц» XX века стало создание свободной автономной женской личности.
В спорах о том, достижима ли такая цель, приняли участие генетики, психологи, антропологи, этнологи, философы, историки, социологи, филологи. Параллельно с возникновением в 1970 г. во Франции «Движения за освобождение женщины» там были основаны и первые феминистские журналы. Аналогичный процесс начался и в США, где в короткие сроки увеличили свои тиражи журналы «Signs», «Feminist Studies», «Womens Studies Quarterly». Взлет неофеминизма повлиял на интеллектуальную сферу: ученые в Европе и США стали избирать объектом своих изысканий женщину - в семье, на производстве, в системах права и образования, в науке, политике, литературе и искусстве. Первый спецкурс по истории «женского движения» был прочитан в Сиэтле в 1965 г. В конце 60-х спецкурсы «о женщинах» читались также в Вашингтоне, Портлэнде, Ричмонде,
Сакраменто. В 1969 г. исследовательница из Корнелльского университета Шейла Тобиас предложила обобщающее название для этих спецкурсов - «изучение женщин» (Female Studies). В 1970 г. возглавленная ею команда преподавателей социальных наук (психологов, социологов, историков) прочла в указанном университете междисциплинарный курс «Личность женщины», который пришло прослушать вплоть до зачетного экзамена более 400 человек. Почти одновременно, в 1970 г., в университете Сан-Диего была учреждена своя «женская» программа обучения студентов; та же Ш. Тобиас организовала там специальное издание «Female Studies», которое взялось за публикацию программ курсов, списков литературы и было нацелено на обмен опытом между преподавателями, увлеченными женской темой. В том же 1970 г. в Балтиморе Флоренс Хоу и Пол Лоутер учредили издательство «Feminist Press», сыгравшее немалую роль в пропаганде знаний о взаимоотношениях полов.
К концу 60 - началу 70-х гг. в рамках многих традиционных академических дисциплин уже в десятках университетов США и Европы появилось «Изучение женщин». Историки вспоминали несправедливо забытые имена тех, кто внес вклад в развитие этого направления, литературоведы рассматривали своеобразие образного и речевого стиля женщин-писательниц, педагоги ставили вопрос об особенностях воспитания мальчиков и девочек, психологи обращались к ранее известным, но несколько подзабытым классическим трудам по женской психологии, социологи пытались показать отличия социальных ролей мужчин и женщин и вытекающие отсюда демографические следствия. Термин «гендер» в их работах соотносился лишь с женским опытом и употреблялся тогда, когда речь шла о социальных, культурных, психологических аспектах «женского» в сравнении с «мужским», при описании норм, стереотипов, социальных ролей, типичных для женщин.
Исследования, которые именовались «гендерными» и были опубликованы в 70-е гг., были «женскими исследованиями», и велись они женщинами-учеными, стоявшими на феминистских позициях. Те же самые исследования в 70-е гг. могли также называться:
- «женскими исследованиями» («Female Studies»), что казалось ученым-феминисткам слишком биологизированным;
- «феминистскими исследованиями» («Feminist Studies»), что многие отвергали по причине идеологизированности (т.к. не все желающие примкнуть к новому направлению числили себя феминистками или феминистами);
- «женские исследования» («Women’s Studies»), что считалось не слишком политкорректным, так как подчеркивало «объектность» женщины как предмета изучения;
- «исследования женщины» («Women’ Studies») - так определялись исследования любой проблемы на «женскую тему», чаще всего проводившиеся женщинами.
исследовательница Нин Коч сконструировала термин «феминология», получивший распространение в России. Под этим стали понимать междисциплинарную отрасль научного знания, изучающую совокупность проблем, связанных с социально-экономическим и политическим положением женщины в обществе, эволюцией ее социального статуса и функциональных ролей.
В современной литературе, посвященной возникновению и развитию женских исследований, выделяют четыре стадии развития «женских исследований» («Women’s Studies»), характерные для американских академических кругов (Ярская-Смирнова, 2001).
Первая стадия женских исследований занимает промежуток с конца 60-х до конца 70-х гг. Изучение женщин началось в рамках традиционных академических социальных и гуманитарных дисциплин - в основном в литературе, истории, философии, социологии и психологии. Главной задачей женских исследований было «ввести женщину» в традиционные социальные и гуманитарные дисциплины. В учебном процессе стали использоваться несправедливо забытые труды женщин-ученых, демонстрировалась их роль в развитии науки и культуры. В истории развития культуры женщины обычно исключались из публичного дискурса, так как их роль в жизни общества отождествлялась исключительно с домашней сферой.
Реализации задачи общенациональной институционализации женских исследований в системе высшего образования США была посвящена вторая стадия развития этого направления (начало 80-х гг.). Стали появляться кафедры в университетах,
исследовательские институты и центры женских исследований, начали выходить специальные журналы, хрестоматии, учебные пособия. В университетах начались широкие обсуждения статуса женщин, явлений дискриминации в публичной сфере и частной жизни, полоролевых предрассудков в социуме, литературе и образовании. Были опубликованы работы о продолжающейся дискриминации женщин в общественной и частной жизни, на рынке труда; об ограниченном доступе женщин к образованию и профессиям, а также к политике на уровне принятия решений.
Третья стадия развития женских исследований приходится на середину 80-х гг. Эта стадия связана с продолжением реструктуризации учебных программ ради включения опыта меньшинств, повышения толерантности и чувствительности к мультикультуральным различиям студентов. В это время академические программы женских исследований подверглись критике со стороны авторов-женщин, представляющих этнические, расовые и сексуальные меньшинства: в частности, черные и цветные женщины выдвигали вполне обоснованные требования включить в концептуализацию женственности расовые, этнические и классовые различия. В результате некоторые университеты стали предлагать специализацию по «черным» женским исследованиям, начали финансироваться проекты и программы для «цветных» женщин в высшей школе, проводились соответствующие конференции, семинары и летние школы.
Четвертая стадия развития женских исследований началась в 1990-х гг. и была связана с развитием глобальной инфраструктуры и повышением внимания к международным проблемам женщин. Образовательные программы и исследовательские проекты по проблемам женщин стали распространяться в странах Западной Европы, Африки, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. Были основаны регулярные международные летние институты, конференции и конгрессы, проводимые при поддержке многочисленных женских организаций. Это привело к интенсивному обмену информацией и опытом между учеными и преподавателями. Образовательные программы приобретали международную, глобальную ориентацию. В связи с растущим числом публикаций, вышедших в постколониальных государствах и странах третьего мира, современные программы по женским исследованиям ставят акцент на вопросах политики, социально-экономического развития, на проблемах милитаризма, репродуктивных прав, беженцев и др.
Главными отличиями женских исследований, или «феминологии», как научного направления от всех предшествующих исследований социально-половых ролей, этнографии, психологии и социологии пола являются: (1) критика наук, ранее «не замечавших» женщин; (2) критика общества, а потому - связь с женским движением; (3) работа в поле пересечения научных дисциплин в форме междисциплинарной исследовательской практики.
Говоря о главных достижениях гендерных исследований на их первом, феминологическом этапе, нужно подчеркнуть, что они: (1) ввели фактор различия полов в традиционный социальный, в том числе социально-стратификационный, анализ; (2) возвратили женские имена истории, философии, литературоведению, психологии; (3) заставили признать, что социальное знание, ранее считавшееся «полным» и «универсальным» для всех без различия полов, таковым не является, поскольку традиционные теории познания преуменьшали значение областей знания, занимающих важнейшее место в опыте женщины, и были слишком рационалистическими; (4) обосновали историчность двух взаимодополняющих социальных сфер - публичной-«мужской» и частной-«женской» и равную значимость частной сферы для функционирования общества; (5) разрушили многие проявления мужского мифотворчества (о равной значимости для обоих полов крупных социальных потрясений - например, Французской буржуазной революции 1789 г., о неспособности женщин создавать гениальные произведения - выяснилось, что каноны гениальности также созданы мужчинами, и т.д.) и заставили задуматься о том, что историческое время, проживаемое женской половиной человечества, протекает не в тех же ритмах, что «мужское»; (6) создали предпосылки для перехода от анализа больших структур и социальных общностей к антропологически-ориентированным социальным наукам, интересующимся жизнью отдельных людей; (7) поставили вопрос о разных научных стилях исследований - объективистском, «мужском», и эмоционально-богатом, «женском»; (8) ввели гендерное измерение в социально-экономическую историю, пополнившуюся такими темами, как «феминизация бедности», «фемининность безработицы», «политэкономия домашнего труда», «история женского домашнего труда», заставив признать категорию «пол» одним из структурообразующих экономических принципов; (9) предложили особое понимание темы «женской работы» как неоплачиваемого труда (рождение детей, их воспитание, труд по поддержанию в доме чистоты, приготовлению пищи, стирке, глажке, уходу за больными и немощными), который во все эпохи практически игнорировали; (10) анализ так называемых «женских профессий» (воспитательницы, учительницы, гувернантки, поварихи, прачки, гладильщицы, прядильщицы, ткачихи, медсестры, социальной работницы) в прошлом и настоящем, причем исследователи сделали вывод, что эти профессии сложились и воспроизводятся как продолжение гендерных ролей, приписанных женщинам социальными и культурными нормами; (11) наконец, женские исследования вовлекли в феминистское движение массу женщин, в том числе из числа ученых. Они пришли в новую область знания со сложившимся житейским и научным опытом, который позволял им превращать «личное» в «профессиональное», а затем и в «политическое».
Несмотря на их очевидные успехи - и в содержании, и в методиках и подходах - традиционная наука восприняла появление женских исследований скептически. Непризнание и насмешки в адрес «женоведов» (феминологов) предопределили возникновение духа кастовости университетских и академических объединений, изучавших женскую тему. Феминологи 70-х гг. оказались вытесненными из своих дисциплин на обочину «большой науки», образовав евро-американскую субкультуру, или «сестричество», исследовательниц, хорошо знающих и поддерживающих друг друга на конференциях, в переписке, но малозаметных для ученых-коллег.